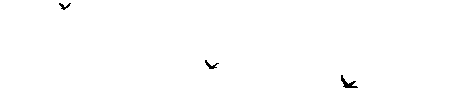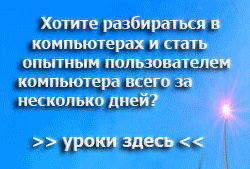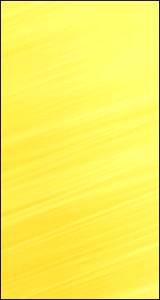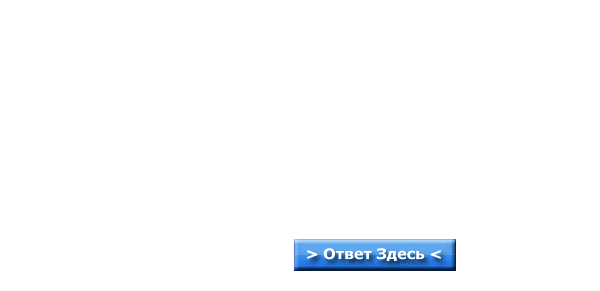Уинстон обвел взглядом запущенную комнатушку над лавкой мистера Чаррингтона. Широченная, с голым валиком кровать возле окна былазастлана драными одеялами. На каминной доске тикали старинные часы сдвенадцатичасовым циферблатом. В темном углу на раздвижном столепоблескивало стеклянное пресс-папье, которое он принес сюда в прошлыйраз. В камине стояла помятая керосинка, кастрюля и две чашки - все этобыло выдано мистером Чаррингтоном. Уинстон зажег керосинку и поставил кастрюлю с водой. Он принес с собой полный конверт кофе и сахариновые таблетки. Часы показывали двадцать минут восьмого, это значило девятнадцать двадцать.
Она должна была прийти в девятнадцать тридцать. Безрассудство, безрассудство, твердило ему сердце,самоубийственная прихоть и безрассудство. Из всех преступлений, какиеможет совершить член партии, это скрыть труднее всего. Идея зародилась у него как видение: стеклянное пресспапье, отразившееся в крышке раздвижного стола. Как он и ожидал, мистер Ларрингтон охотно согласился сдать комнату. Он был явно рад этимнескольким лишним долларам.
А когда Уинстон объяснил ему, что комнатанужна для свиданий с женщиной, он и не оскорбился и не перешел напротивный доверительный тон. Глядя куда-то мимо, он завел разговор наобщие темы, причем с такой деликатностью, что сделался как бы отчасти невидим. Уединиться, сказал он, для человека очень важно. Каждомувремя от времени хочется побыть одному. И когда человек находит такое место, те, кто об этом знает, должныхотя бы из простой вежливости держать эти сведения при себе.
Он добавил - причем создалось впечатление, будто его уже здесь почти нет,- что в доме два входа, второй - со двора, а двор открывается в проулок. Под окном кто-то пел. Уинстон выглянул, укрывшись за муслиновойзанавеской. И юньское солнце еще стояло высоко, а на освещенном дворе топала взад вперед между корытом и бельевой веревкой громадная, мощная, как норманнский столб, женщина с красными мускулистыми руками иразвешивала квадратные тряпочки, в которых Уинстон угадал детские пеленки.
Когда ее рот освобождался от прищепок, она запевала сильнымконтральто: Давно уж нет мечтаний, сердцу милых. Они прошли, как первый день весны, Но позабыть я и теперь не в силах Тем голосом навеянные сны! Последние недели весь Лондон был помешан на этой песенке. Их вбесчисленном множестве выпускала для пролов особая секция музыкального отдела.
Слова сочинялись вообще без участия человека - на аппарате подназванием версификатор. Но женщина пела так мелодично, что этастрашная дребедень почти радовала слух. Уинстон слышал и ее песню, ишарканье ее туфель по каменным плитам, и детские выкрики на улице, иотдаленный гул транспорта, но при всем этом в комнате стоялаудивительная тишина: тут не было телекрана. Безрассудство, безрассудство! - снова подумал он. Несколько недель встречаться здесь и не попасться - мыслимое ли дело? Но слишком великодля них было искушение иметь свое место под крышей и недалеко.
Послесвидания на колокольне они никак не могли встретиться. К Неделененависти рабочий день резко удлинили. До нее еще оставалось большемесяца, но громадные и сложные приготовления всем прибавили работы.Наконец Джулия и Уинстон выхлопотали себе свободное время после обедав один день. Решили поехать на прогалину. Накануне они ненадолговстретились на улице.
Пока они пробирались навстречу друг другу втолпе, Уинстон, по обыкновению, почти не смотрел в сторону Джулии, но даже одного взгляда ему было достаточно, чтобы заметить ее бледность. - Все сорвалось, - пробормотала она, когда увидела, что можноговорить. - Я о завтрашнем. - Что? - Завтра. Не смогу после обеда. - Почему? - Да обычная история.
В этот раз рано начали. Сперва он ужасно рассердился. Теперь, через месяц после ихзнакомства, его тянуло к Джулии совсем по-другому. Тогда настоящейчувственности в этом было мало. Их первое любовное свидание былопросто волевым поступком. Но после второго все изменилось. Запах ее волос, вкус губ, ощущение от ее кожи будто поселились в нем или же пропитали весь воздух вокруг.
Она стала физической необходимостью, онее не только хотел, но и как бы имел на нее право. Когда она сказала,что не сможет прийти, ему почудилось, что она его обманывает. Но тут как раз толпа прижала их друг к другу, и руки их нечаянно соединились.
Она быстро сжала ему кончики пальцев, и это пожатие как будтопросило не страсти, а просто любви. Он подумал, что, когда живешь сженщиной, такие осечки в порядке вещей и должны повторяться; и вдругпочувствовал глубокую, незнакомую доселе нежность к Джулии.
Ему захотелось, чтобы они были мужем и женой и жили вместе уже десять лет.Ему захотелось идти с ней до улице, как теперь, только не таясь, без страха, говорить о пустяках и покупать всякую ерунду для дома. Абольше всего захотелось найти такое место, где они смогли бы побытьвдвоем и не чувствовать, что обязаны урвать любви на каждом свидании.Но не тут, а только на другой день родилась у него мысль снять комнатуу мистера Чаррингтона.
Когда он сказал об этом Джулии, она наудивление быстро согласилась. Оба понимали, что это сумасшествие. Онисознательно делали шаг к могиле. И сейчас, сидя на краю кровати, ондумал о подвалах министерства любви. Интересно, как этот неотвратимыйкошмар то уходит из твоего сознания, то возвращается. Вот он поджидает тебя где-то в будущем, и смерть следует за ним так же, как задевяносто девятью следует сто.
Его не избежать, но оттянуть наверноеможно; а вместо этого каждым таким поступком ты умышленно, добровольноего приближаешь. На лестнице послышались быстрые шаги. В комнату ворвалась Джулия. У нее была коричневая брезентовая сумка для инструментов - с такойон не раз видел ее в министерстве. Он было обнял ее, но она поспешноосвободилась - может быть, потому, что еще держала сумку. - Подожди, - сказала она. - Дай покажу, что я притащила. Ты принес эту гадость, кофе ? Так и знала.
Можешь отнести его туда, откуда взял,- он не понадобится. Смотри. Она встала на колени, раскрыла сумку и вывалила лежавшие сверхугаечные ключи и отвертку. Под ними были спрятаны аккуратные бумажныепакеты. В первом, который она протянула Уинстону, было что-то странное, нокак будто знакомое на ощупь.
Тяжелое вещество подавалось под пальцами,как песок. - Это не сахар? - спросил он. - Настоящий сахар. Не сахарин, а сахар. А вот батон хлеба -порядочного белого хлеба, не нашей дряни... и баночка джема. Тут банкамолока... и смотри! Вот моя главная гордость! Пришлось завернуть вмешковину, чтобы...
Но она могла не объяснять, зачем завернула. Запах уже наполнилкомнату, густой и теплый; повеяло ранним детством, хотя и теперьслучалось этот запах слышать: то в проулке им потянет до того, какзахлопнулась дверь, то таинственно расплывется он вдруг в уличной толпе и тут же рассеется. - Кофе, - пробормотал он, настоящий кофе. - Кофе для внутренней партии. Целый килограмм. - Где ты столько всякого достала? - Продукты для внутренней партии. У этих сволочей есть все на свете.
Но, конечно, официанты и челядь воруют... смотри, еще пакетик чая. Уинстон сел рядом с ней на корточки. Он надорвал угол пакета. - И чай настоящий. Не черносмородинный лист. - Чай в последнее время появился.
Индию заняли или вроде того, -рассеянно сказала она. - Знаешь что, милый? Отвернись на три минуты,ладно? Сядь на кровать с другой стороны. Не подходи близко к окну. И необорачивайся, пока не скажу. Уинстон праздно глядел на двор из-за муслиновой занавески. Женщинас красными руками все еще расхаживала между корытом и веревкой. Онавынула изо рта две прищепки и с сильным чувством запела:
Пусть говорят мне - время все излечит.
Пусть говорят - страдания забудь.
Но музыка давно забытой речи
Мне и сегодня разрывает грудь!
Всю эту идиотскую песенку она, кажется, знала наизусть. Голос плылв нежном летнем воздухе, очень мелодичный, полный какой-то счастливоймеланхолии. Казалось, что она будет вполне довольна, если никогда некончится этот летний вечер, не иссякнут запасы белья, и готова хотьтысячу лет развешивать тут пеленки и петь всякую чушь. Уинстон судивлением подумал, что ни разу не видел партийца, поющего в одиночкуи для себя. Это сочли бы даже вольнодумством, опасным чудачеством, вроде привычки разговаривать с собой вслух.
Может быть, людям только тогда и есть о чем петь, когда они награни голода. - Можешь повернуться, - сказали Джулия. Уинстон обернулся и не узнал ее. Он ожидал увидеть ее голой. Ноона была не голая. Превращение ее оказалось куда замечательнее. Онанакрасилась. Должно быть, она украдкой забежала в какую-нибудь из пролетарскихлавочек и купила полный набор косметики. Губы - ярко-красные отпомады, щеки нарумянены, нос напудрен: и даже глаза подвела: они сталиярче. Сделала она это не очень умело, но и запросы Уинстона быливесьма скромны.
Он никогда не видел и не представлял себе партийнуюженщину и косметикой на лице. Джулия похорошела удивительно. Чуть-чуть краски в нужных местах -и она стала не только красивее, но и, самое главное, женственнее.Короткая стрижка и мальчишеский комбинезон лишь усиливали впечатление. Когда он обнял Джулию, на него пахнуло синтетическим запахом фиалок. Он вспомнил сумрак полуподвальной кухни и рот женщины, похожий напещеру.
От нее пахло теми же духами, но сейчас это не имело значения. - Духи! - сказал ой. - Да, милый, духи. И знаешь, что я теперь сделаю? Где-нибудь достану настоящее платье и надену вместо этих гнусных брюк. Наденушелковые чулки и туфли на высоком каблуке. В этой комнате я будуженщина, а не товарищ! Они скинули одежду и забрались на громадную кровать из красногодерева. Он впервые разделся перед ней догола.
До сих пор он стыдилсясвоего бледного, хилого тела, синих вен на икрах, красного пятна надщиколоткой. Белья не было, но одеяло под ними было вытертое и мягкое,а ширина кровати обоих изумила. - Клопов, наверно, тьма, но какая разница - сказала Джулия. Двуспальную кровать можно было увидеть только в домах у пролов. Уинстон спал на похожей в детстве; Джулия, сколько помнила, не лежалана такой ни разу. После они ненадолго уснули.
Когда Уиистон проснулся, стрелки часовподбирались н девяти. Он не шевелился - Джулия спала у него на руке.Почти все румяна перешли на его лицо, на валик, но и то немногое, чтоосталось, все равно оттеняло красивую лепку ее скулы. Желтый лучзакатного солнца падал на изножье кровати и освещал камин - там давнокипела вода в кастрюле.
Женщина на дворе уже не пела, с улицы негромкодоносились выкрики детей. Он лениво подумал: неужели в отмененномпрошлом это было о6ычным делом - мужчина и женщина могли лежать впостели прохладным вечером, ласкать друг друга когда захочется, разговаривать о чем вздумается и никуда не спешить, просто лежать ислушать мирный уличный шум? Нет, не могло быть такого времени, когда это считалось нормальным.
Джулия проснулась, протерла глаза и,приподнявшись на локте, поглядела на керосинку. - Вода наполовину выкипела, - сказала она. - Сейчас встану, заварюкофе. Еще час есть. У тебя в доме когда выключают свет? - В двадцать три тридцать. - А в общежитии -в двадцать три. Но возвращаться надо раньше,иначе... Ах ты! Пошла, гадина!
Она свесилась с кровати, схватила с пола туфлю и, размахнувшисьпо-мальчишески, швырнула в угол, как тогда на двухминутке ненависти -словарем в Голдстейна. - Что там такое? - с удивлением спросил он. - Крыса. Из панели, тварь, морду высунула. Нора у ней там Но я ее хорошо пугнула. - Крысы! - прошептал Уинстон. - В этой комнате? - Да их полно, - равнодушно ответила Джулия и снова легла. - В некоторых районах кишмя кишат.
А ты знаешь, что они нападают на детей?Нападают. Кое-где женщины на минуту не могут оставить грудного. Бояться надостарых, коричневых. А самое противное - что эти твари... - Перестань! - Уинстон крепко зажмурил глаза. - Миленький! Ты прямо побледнел. Что с тобой? Не переносишь крыс? - Крыс... Нет ничего страшней на свете.
Она прижалась к нему, обвила его руками и ногами, словно хотелауспокоить теплом своего тела. Он не сразу открыл глаза. Несколько мгновений у него было такое чувство, будто его погрузили в знакомый кошмар, который посещал его на протяжении всей жизни.
Он стоит передстеной мрака, а за ней - что-то невыносимое, настолько ужасное, чтонет сил смотреть. Главным во сне было ощущение, что он себяобманывает: на самом деле ему известно, что находится за стеной мрака.Чудовищным усилием, выворотив кусок собственного мозга, он мог бы дажеизвлечь это на свет. Уинстон всегда просыпался, так и не выяснив, что там скрывалось...
И вот прерванный на середине рассказ Джулии имелкакое-то отношение к его кошмару. - Извини, - сказал он. - Пустяки. Крыс не люблю, больше ничего. - Не волнуйся, милый, мы этих тварей сюда не пустим. Перед уходом заткну дыру тряпкой.
А в следующий раз принесу штукатурку, и забьемкак следует. Черный миг паники почти выветрился из головы. Слегка устыдившись,Уинстон сел к изголовью. Джулия слезла с кровати, надела комбинезон исварила кофе. Аромат из кастрюли был до того силен и соблазнителен,что они закрыли окно: почует кто-нибудь на дворе и станетлюбопытничать. Самым приятным в кофе был даже не вкус, а шелковистостьна языке, которую придавал сахар, - ощущение, почти забытое за многие годы питья с сахарином.
Джулия, засунув одну руку в карман, а в другойдержа бутерброд с джемом, бродила по комнате, безразлично скользилавзглядом по книжной полке, объясняла, как лучше всего починитьраздвижной стол, падала в кресло - проверить, удобное ли, - весело и снисходительно разглядывала двенадцатичасовой циферблат.
Принесла накровать, поближе к свету, стеклянное пресс-папье. Уинстон взял его вруки и в который раз залюбовался мягкой дождевой глубиною стекла. - Для чего эта вещь, как думаешь? - спросила Джулия. - Думаю, ни для чего... то есть ею никогда не пользовались. За это она мне и нравится.
Маленький обломок истории, который забылипеределать. Весточка из прошлого века - знать бы, как ее прочесть. - А картинка на стене, - она показала подбородком на гравюру, -неужели тоже прошлого века? - Старше. Пожалуй, позапрошлого. Трудно сказать. Теперь ведьвозраста ни у чего не установишь.
Джулия подошла к гравюре поближе. - Вот откуда эта тварь высовывалась, - сказала она и пнула стенупрямо под гравюрой. - Что это за дом? Я его где-то видела. - Это церковь - по крайней мере была церковью. Называлась - церковь святого Климента у датчан. - Он вспомнил начало стишка,которому его научил мистер Чаррингтон, и с грустью добавил:
Апельсинчики как мед,
В колокол Сент-Клемент бьет.
К его изумлению, она подхватила:
И звонит Сент-Мартин:
Отдавай мне фартинг!
А Олд-Бейли ох сердит:
Возвращай должок! - гудит.
Что там дальше, не могу вспомнить. Помню только, чем кончается. Это было как пароль и отзыв. Но после должно идти что-то еще. Может быть, удастся извлечь из памяти мистера Чаррингтона, еслиправильно его настроить. - Кто тебя научил? - спросил он. - Дед научил. Я была еще маленькой.
Его распылили, когда мне быловосемь лет... во всяком случае, он исчез... Интересно, какие они были,апельсины, - неожиданно сказала она. - А лимоны я видела. Желтоватые,остроносые. - Я помню лимоны, - сказал Уинстон. - В пятидесятые годы их быломного. Такие кислые, что только понюхаешь - и то уже слюна бежит. - За картинкой наверняка живут клопы, - сказала Джулия. - Как-нибудь сниму ее и хорошенько почищу. Кажется, нам пора.
Мне ещенадо смыть краску. Какая тоска! А потом сотру с тебя помаду. Уинстон еще несколько минут повалялся. В комнате темнело. Онповернулся к свету и стал смотреть на пресс-папье. Не коралл, авнутренность самого стекла - вот что без конца притягивало взгляд. Глубина и вместе с темпочти во здушная его прозрачность.
Подобно небесному своду, стеклозамкнуло в себе целый крохотный мир вместе с атмосферой. И чудилосьУинстону, что он мог бы попасть внутрь, что он уже внутри -и он, и эта кровать красного дерева, и раздвижной стол, и часы, и гравюра, и самопресс-папье. Оно было этой комнатой, а коралл - жизнью его и Джулии, словно в вечность запаянной в сердцевину хрусталя.
Глава V
Исчез Сайм. Утром не пришел на работу; недалекие люди поговорили оего отсутствии. На другой день о нем никто не упоминал. На третийУинстон сходил в вестибюль отдела документации и посмотрел на доскуобъявлений. Там был печатный список Шахматного комитета, где состоял Сайм. Список выглядел почти как раньше - никто не вычеркнут, - толькостал на одну фамилию короче. Все ясно. Сайм перестал существовать; он никогда не существовал. Жара стояла изнурительная.
В министерских лабиринтах, в кабинахбез окон кондиционеры поддерживали нормальную температуру, но на улицетротуар обжигал ноги, и вонь в метро в часы пик была несусветная.Приготовления к Неделе ненависти шли полным ходом, и сотрудники министерствработали сверхурочно. Шествия, митинги, военные парады, лекции, выставки восковых фигур, показ кинофильмов, специальные телепрограммы- все это надо было организовать; надо было построить трибуны, смонтировать статуи, отшлифовать лозунги, сочинить песни, запуститьслухи, подделать фотографии.
В отделе литературы секцию Джулии сняли сроманов и бросили на брошюры о зверствах. Уинстон в дополнение кобычной работе подолгу просиживал за подшивками , меняя и разукрашиваясообщения, которые предстояло цитировать в докладах. Поздними вечерами, когда по улицам бродили толпы буйных пролов, Лондон словно лихорадило. Ракеты падали на город чаще обычного, аиногда в отдалении слышались чудовищные взрывы - объяснить эти взрывыникто не мог, и о них ползли дикие слухи.
Сочинена уже была и беспрерывно передавалась по телекранумузыкальная тема Недели - новая мелодия под названием "Песня ненависти". Построенная на свирепом, лающем ритме и мало чем похожая на музыку,она больше всего напоминала барабанный бой. Когда ее орали в тысячуглоток, под топот ног, впечатление получалось устрашающее.
Она полюбиласьпролам и уже теснила на ночных улицах все еще популярную "Это всеголишь безнадежная иллюзия". Дети Парсонса исполняли ее в любой час дняи ночи убийственно, на гребенках. Теперь вечера Уинстона были загруженыеще больше. Отряды добровольцев, набранные Парсонсом, готовили улицу к Неделе ненависти, делали транспаранты,рисовали плакаты, ставили на крышах флагштоки, с опасностью для жизнинатягивали через улицу проволоку для будущих лозунгов.
Парсон схвастал, что дом один вывесит четыреста погонных метров флагов итранспарантов. Он был в своей стихии и радовался, как дитя. Благодаряжаре и физическому труду он имел полное основание переодеватьсявечером в шорты и свободную рубашку.
Он был повсюду одновременно -тянул, толкал, пилил, заколачивал, изобретал, по-товарищескиподбадривал и каждой складкой неиссякаемого тела источал едко пахнущийпот. Вдруг весь Лондон украсился новым плакатом. Без подписи: огромный,в три-четыре метра, евразийский солдат с непроницаемым монголоиднымлицом и в гигантских сапогах шел на зрителя с автоматом, целясь отбедра. Где бы ты ни стал, увеличенное перспективой дуло автоматасмотрело на тебя. Эту штуку клеили на каждом свободном месте, накаждой стене, и численно она превзошла даже портреты Старшего Брата.
У пролов, войной обычно не интересовавшихся, сделался, как этопериодически с ними бывало, припадок патриотизма. И, словно дляподдержания воинственного духа, ракеты стали уничтожать больше Людей,чем всегда. Одна угодила в переполненный кинотеатр в районе Степни ипогребла под развалинами несколько сот человек. На похороны собралисьвсе жители района; процессия тянулась несколько часов и вылилась вмитинг протеста. Другая ракета упала на пустырь, занятый под детскую площадку, и разорвала в клочья несколько десятков детей.
Снова были гневныедемонстрации, жгли чучело Голдстейна, сотнями срывали и предавали огню плакаты с евразийцем;Во время беспорядков разграбили несколько магазинов; потом разнесетслух, что шпионы наводят ракеты при помощи радиоволн, - у старой четы, заподозренной в иностранном происхождении, подожгли дом, и старикизадохнулись в дыму. В комнате над лавкой мистера Чаррингтона Джулия и Уинстон ложились на незастланную кровать и лежали под окном, голые из-за жары.
Крысабольше не появлялась, но клоп плодился в тепле ужасающе. Их это нетрогало. Грязная ли, чистая ли, комната была раем. Едва переступивпорог, они посыпали все перцем, купленным на черном рынке, скидывалиодежду и, потные, предавались любви; потом их смаривало, а проснувшись, они обнаруживали, что клопы воспряли и стягиваются дляконтратаки.
Четыре, пять, шесть... семь раз встречались они так в июне.Уинстон избавился от привычки пить джин во всякое время дня. И как будто не испытывал в нем потребности.
Он пополнел, варикозная язва егозатянулась, оставив после себя только коричневое пятно над щиколоткой;прекратились и утренние приступы кашля. Процесс жизни перестал бытьневыносимым; Уинстона уже не подмывало, как раньше, скорчить рожутелекрану или выругаться во весь голос.
Теперь, когда у них былонадежное пристанище, почти свой дом, не казалось лишением даже то, чтоприходить сюда они могут только изредка и на каких-нибудь два часа.Важно было, что у них есть эта комната над лавкой старьевщика. Знать, что она есть и неприкосновенна, - почти то же самое, что находиться вней. Комната была миром, заказником прошлого, где могут бродить вымершие животные. Мистер Чаррингтон тоже вымершее животное, думал Уинстон. По дорогенаверх он останавливался поговорить с хозяином.
Старик, по-видимому,редко выходил на улицу, если вообще выходил; с другой стороны, ипокупателей у него почти не бывало. Незаметная жизнь его протекаламежду крохотной темной лавкой и еще более крохотной кухонькой в тылу,где он стряпал себе еду и где стоял среди прочих предметов невероятнодревний граммофон с огромнейшим раструбом.
Старик был рад любомуслучаю поговорить. Длинноносый и сутулый, в толстых очках и бархатномпиджаке, он бродил среди своих бесполезных товаров, похожий скорее наколлекционера, чем на торговца. С несколько остывшим энтузиазмом онбрал в руку тот или иной пустяк - фарфоровую затычку для бутылки,разрисованную крышку бывшей табакерки, латунный медальон с прядкой волос неведомого и давно умершего ребенка, - не купить предлагая Уинстону, а просто полюбоваться. Беседовать с ним было все равно чтослушать звон изношенной музыкальной шкатулки.
Он извлек из закоулков своей памяти еще несколько забытых детских стишков. Один был , другойпро корову с гнутым рогом, а еще один про смерть малиновки, говорилон с неодобрительным смешком, воспроизведя очередной отрывок. Но ни водном стихотворении он не мог припомнить больше двух-трех строк. Они с Джулией понимали и, можно сказать, все время помнили, что долго продолжаться это не может.
В иные минуты грядущая смерть казалась не менее ощутимой, чем кровать под ними, и они прижималисьдруг к другу со страстью отчаянья - как душа, обреченная аду, хватаетпоследние крохи наслаждения за пять минут до боя часов. Впрочем,бывали такие дни, когда они тешили себя иллюзией не только безопасности, но и постоянства. Им казалось, что в этой комнате с нимине может случиться ничего плохого. Добираться сюда трудно и опасно, но сама комната - убежище.
С похожим чувством Уинстон вглядывался однаждыв пресс-папье: казалось, что можно попасть в сердцевину стеклянногомира и, когда очутишься там, время остановится. Они часта предавалисьгрезам о спасении. Удача их не покинет, и роман их не кончится, покаони не умрут своей смертью.
Или Кэтрин отправится на тот свет, и путемразных ухищрений Уинстон с Джулией добьются разрешения на брак. Илиони вместе покончат с собой. Или скроются: изменят внешность, научатсяпролетарскому выговору, устроятся на фабрику и, никем не узнанные,доживут свой век на задворках.
Оба знали, что все это ерунда. Вдействительности спасения нет. Реальным был один план - самоубийство,но и его они не спешили осуществить. В подвешенном состоянии, день за днем, из недели в неделю, тянутьнастоящее без будущего велел им непобедимый инстинкт - так легкие всегда делают следующий вдох, покуда есть воздух. А еще они иногда говорили О деятельном бунте против партии - но непредставляли себе, с чего начать. Даже если мифическое Братствосуществует, как найти к нему путь?
Уинстон рассказал ей о страннойблизости, возникшей - или как будто возникшей - между ним иО'Брайеном, и о том, что у него бывает желание прийти к О'Брайену,объявить себя врагом партии и попросить помощи. Как ни странно, Джулия не сочла эту идею совсем безумной. Она привыкла судить о людях по лицам, и ей казалось естественным, что,один раз переглянувшись с О'Брайеном, Уинстон ему поверил.
Она считаласамо собой разумеющимся, что каждый человек, почти каждый, тайноненавидит партию и нарушит правила, если ему это ничем не угрожает. Но она отказывалась верить, что существует и может существовать широкоеорганизованное сопротивление.
Рассказы о Голдстейне и его подпольнойармии - ахинея, придуманная партией для собственной выгоды, а ты должен делать вид, будто веришь. Невесть сколько раз на партийных собраниях и стихийных демонстрациях она надсаживала горло, требуяказнить людей, чьих имен никогда не слышала и в чьи преступления неверила ни секунды.
Когда происходили открытые процессы, она занималасвое место и отрядах Союза юных, с утра до ночи стоявших в оцепленийвокруг суда, и выкрикивала с ними: На двухминутках ненависти громчевсех поносила Голдстейна. При этом очень смутно представляла себе, ктотакой Голдстейн и в чем состоят его теории.
Она выросла после революциии по молодости лет не помнила идеологические баталии пятидесятых ишестидесятых годов. Независимого политического движения она представить себе не могла;да и в любом случае партия неуязвима. Партия будет всегда и всегда будет такой же.
Противиться ей можно только тайным неповиновением, самое большее -частными актами террора: кого-нибудь убить, что-нибудь взорвать. В некоторых отношениях она была гораздо проницательнее Уинстона именьше подвержена партийной пропаганде.
Однажды, кода он обмолвился всвязи с чем-то о войне с Евразией, Джулия ошеломила его, небрежносказав, что, по ее мнению, никакой войны нет. Ракеты, падающие на Лондон, может быть, пускает само правительство .
Ему такая мысль просто не приходила в голову. А один раз он ей даже позавидовал: когдаона сказала, что на двухминутках ненависти самое трудное для нее - удержаться от смеха. Но партийные идеи она подвергала сомнению толькотогда, когда они прямо затрагивали ее жизнь.
Зачастую она готова былапринять официальный миф просто потому, что ей казалось не важным, ложь это или правда. Например, она верила, что партия изобрела самолет, так ее научили в школе. (Когда Уинстон был школьником - в конце пятидесятых годов, партия претендовала только на изобретение вертолета; десятью годами позже, когда в школу пошла Джулия, изобретением партии стал уже и самолет; еще одно поколение и она изобретет паровую машину.)
Когда он сказал Джулии, чтосамолеты летали до его рождения и задолго до революции, ее этонисколько не взволновало. В конце концов какая разница, кто изобрел самолет? Но больше поразило его другое: как выяснилось из одноймимоходом брошенной фразы, Джулия не помнила, что четыре года назад уних с Евразией был мир, а война - с Остазией, Правда, войну она вообщесчитала мошенничеством; но что противник теперь другой, она даже незаметила, сказала она равнодушно.
Его это немного испугало. Самолети зобрели задолго до ее рождения, но враг-то переменился всего четырегода назад, она была уже вполне взрослой. Он растолковывал ей это,наверное, четверть часа. В конце концов ему удалось разбудить еепамять, и она с трудом вспомнила, что когда-то действительно врагомбыла не Евразия, а Остазия. Но отнеслась к этому безразлично.
Иногда он рассказывал ей об отделе документации, о том, какзанимаются наглыми подтасовками. Ее это не ужасало. Пропасть под ее ногами не разверзалась оттого, что ложь превращают в правду.
Он рассказал ей о Джонсе, Аронсоне и Резерфорде, о том, как в руки емупопал клочок бумаги - потрясающая улика. На Джулию и это не произвеловпечатления. Она даже не сразу поняла смысл рассказа. - Они были твои друзья? - спросила она. - Нет, я с ними не был знаком.
Они были членами внутренней партии. Кроме того, они гораздо старше меня. Это люди старого времени,дореволюционного. Я их и в лицо-то едва знал. - Тогда почему столько переживаний? Кого-то все время убивают, правда? Он попытался объяснить: - Это случай исключительный. Дело не только в том, что кого-то убили.
Ты понимаешь, что прошлое, начиная со вчерашнего дня, фактическиотменено? Если оно где и уцелело, то только в материальных предметах,никакие привязанных к словам, - вроде этой стекляшки. Ведь мыбуквально ничего уже не знаем о революции и дореволюционной жизни.
Документы все до одного уничтожены или подделаны, все книги исправлены, картины переписаны, статуи, улицы и здания переименованы, все даты изменены. И этот процесс не прерывается ни на один день, ни на минуту.
История остановилась. Нет ничего, кроме нескончаемогонастоящего, где партия всегда права. Я знаю, конечно, что прошлоеподделывают, но ничем не смог бы это доказать - даже когда самсовершил подделку. Как только она совершена, свидетельства исчезают. Единственное свидетельство - у меня в голове, но кто поручится, что хоть у одного еще человека сохранилось в памяти то же самое?
Только втот раз, единственный раз в жизни, я располагал подлинным фактическимдоказательством - после событий, несколько лет спустя. - И что толку? - Толку никакого, потому что через несколько минут я его выбросил.Но если бы такое произошло сегодня, я бы сохранил. - А я - нет! - сказала Джулия. - Я согласна рисковать, но радичего-то стоящего, не из-за клочков старой газеты.
Ну сохранил ты его -и что бы ты сделал? - Наверно, ничего особенного. Но это было доказательство. И кое вком посеяло бы сомнения, если бы я набрался духу кому-нибудь егопоказать. Я вовсе не воображаю, будто мы способны что-то изменить принашей жизни.
Но можно вообразить, что там и сям возникнут очажкисопротивления - соберутся маленькие группы людей, будут постепеннорасти и, может быть, даже оставят после себя несколько документов,чтобы прочло следующее поколение и продолжило наше дело. - Следующее поколение, милый, меня не интересует.
Меня интересуеммы. - Ты бунтовщица только ниже пояса, - сказал он. Шутка показалась Джулии замечательно остроумной, и она в восторгеобняла его. Хитросплетения партийной доктрины ее не занимали совсем.
Когда онрассуждал о принципах ангсоца, о двоемыслии, об изменчивости прошлогои отрицании объективной действительности, да еще употребляяновоязовские слова, она сразу начинала скучать, смущалась и говорила,что никогда не обращала внимания на такие вещи. Ясно ведь, что все эточепуха, так зачем волноваться?
Она знает, когда кричать и когда улюлюкать, - а больше ничего нетребуется. Если он все-таки продолжал говорить на эти темы, онаобыкновенно засыпала, чем приводила его в замешательство. Она была изтех людей, которые способны заснуть в любое время и в любом положении. Беседуя с ней, он понял, до чего легко представляться идейным, не имея даже понятия о самих идеях. В некотором смысле мировоззрение партии успешнее всего прививалось людям, не способным его понять.
Они соглашаются с самыми вопиющимиискажениями действительности, ибо не понимают всего безобразия подменыи, мало интересуясь общественными событиями, не замечают, что происходит вокруг. Непонятливость спасает их от безумия. Они глотают все подряд, и то, что они глотают, не причиняет им вреда - не оставляет осадка, подобно тому как кукурузное зерно проходит непереваренным через кишечник птицы.